Как жить и творить она выбирает сама
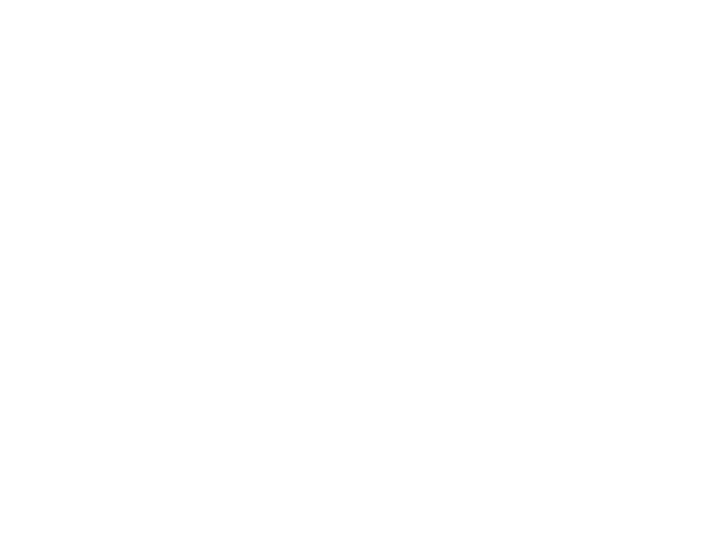
Сегодня я решил поступить несвойственным мне образом — выставить на портале старую свою статью, и, более того, делаю это с особым удовольствием. С тех давних пор, когда в Одессе в последний раз побывала великая и независимая Полина Осетинская, а я сподобился, как теперь кажется, довольно-таки неуклюже, выразить свое восхищение ее игрой, прошло уже достаточно много времени. Но это ничего не значит.
Поскольку она со мной тогда же «задружилась» на Фейсбуке, и я, хотя мы и не поддерживаем оживленной переписки, получил замечательную возможность следить со стороны за ее творчеством, мое уважение к тому, что делает поразительная пианистка, и не только у рояля; мой восторг от соприкосновения, пусть косвенного, с этой незаурядной личностью лишь нарастал. Именно поэтому, наткнувшись в интернете на недавнее интервью П. Осетинской, которое она дала радио «Свобода», особо подчеркнув в этом разговоре то, что для нее всегда была и остается одной из главных духовных ценностей — Свобода выбора, то есть полная независимость от чьих-то вкусовых капризов, политических пристрастий, моральных установок (а это и для меня, смею утверждать, важнее важного), я отыскал свою старую публикацию и повторил ее на портале рядом с упомянутым интервью. Уверен, вы прочтете его с удовольствием, ибо Полина Осетинская так и не научилась юлить и, сохраняя высочайшую степень человеческого достоинства, не позволяя фамильярно трепать себя по плечу, с собою, доверчиво и честно открывает перед зрителями душу.
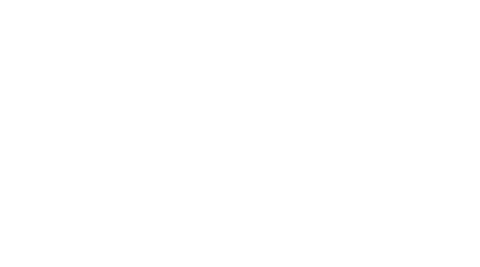
Не знаю, почему я рискнул написать о Полине Осетинской, хотя никогда не был и уже не стану музыкальным критиком, а ее игру вживую слышу в первый раз. Возможно, это навеяно ее внезапным появлением в Одессе, где она не бывала, мне кажется, уйму лет. В моем воображении при известии о ее приезде тут же образовалась девочка-подросток, то ли в длиннющей юбке, то ли в платье почти до пят — такая себе девчушка-веник, которая деловито носилась вслед за отцом по коридорам и лестницам киностудии, надолго пропадала, потом появлялась ниоткуда и тихо сидела в углу, откусывая кусочки от весьма тощего бутерброда, пока я, по ироническому выражению моего покойного друга, просто-таки «тащился» от безумных речей ее папаши, излагавшего сюжеты новых сценариев вперемежку с тезисами собственной методики превращения обычного ребенка в музыкального вундеркинда.
Мог ли я, тогда зам. главного редактора одесской студии и, право, далеко не олух, представить себе, что бранчливый изверг Осетинский всецело прав. С кино у нас, увы, не получилось. Но деловитая малышка-Полина действительно превратилась в уникального исполнителя, виртуоза, иногда философа, порой лирика, владеющего в музыке невероятным диапазоном выразительных средств. Как? Почему это произошло? Не буду сотрясать зря воздуха. Она ответила на эти и множество других вопросов в своей книжке «Прощай, грусть», антитезе известного романа Ф. Саган. И это не был для нее только забавный каламбур. Сочинив свою исповедальную повесть, она, я думаю, наконец, избавилась от тягостного наваждения, связанного с многолетней ученической долбежкой у рояля, еще не отпустившего ее, пожалуй, в полной мере на свободу и в те годы, когда она уже собирала по всему миру полные залы почитателей.
А, может быть, мне почудилось что-то близкое и родное в естественном и, сдается, желанном для нее состоянии одиночества — и в многолюдной уличной толпе, и в роли зрителя на чужом концерте или на сцене, у рояля, — отчего и возникло неотвязное желание поговорить немного о его природе. И, стало быть, — о музыке Полины. Позволю себе по старой памяти и кажущемуся мне сродству чувствований некоторую фамильярность.
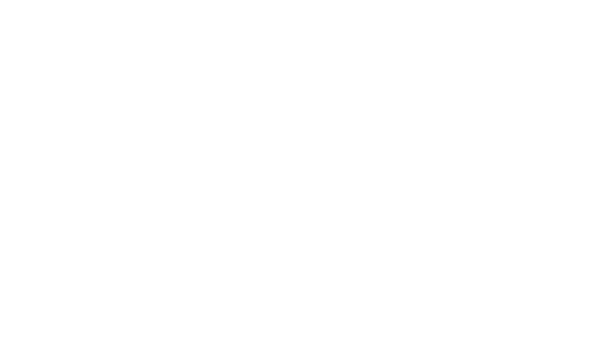
С первой минуты, когда она поднялась на филармоническую сцену и, красивая, статная, почти монументальная (не формами, а исходящей от нее жизненной силой), широкими, стремительными шагами, не глядя по сторонам, не обращая ни на что и ни на кого внимания, направилась к роялю, села и, как водится, опустила на несколько мгновений руки вниз, — с этого, предшествующего погружению в музыкальную стихию момента я был захвачен ею в плен, узнан, обласкан, услышан, отторгнут, возвращен на свое место во втором ряду и на весь вечер прикован к косому просвету между декой и зеркальным крылом инструмента, в котором ее облик повторялся отраженным и странно сдвинутым куда-то в неэвклидово пространство.
О том, какова эта пианистка в деле (специально употребляю этот оборот, ибо считаю его единственно верным), как обращается с каноническим материалом, интерпретируя его подчас совершенно неожиданно, по-своему, добывая из наделенного, все-таки, конечным числом скрытых смыслов массива партитуры абсолютно новые, непредсказуемые, свежие оттенки; как ненатужно и органично соединяет лирические мотивы с тяжелыми мазками подлинной драмы; непринужденные, легкие, изящные реплики — с продуманной философичностью; как умно сопрягает всем известную, хотя и на особицу понятую ею классику с новой, исполненной содержательных сюрпризов и озарений музыкой, требующей от артиста высочайшего технического мастерства, — обо всем этом написаны разными авторами сотни и сотни страниц. К ним я вас и отсылаю.
Осетинская играла в первом отделении своего нынешнего концерта Моцарта и Шопена. Так играла, как, кроме нее, не сумел бы, скорее всего, никто из современных нам музыкантов. Сказать, что она предложила нам подчеркнуто личностную трактовку выбранных ею пьес — вполне серьезной Моцарта и шутливой («Скерцо») Шопена — значит не сказать ничего. И не потому, что внеличностного исполнения музыки не может быть, казалось бы, по определению. В конце концов, для хорошо подготовленного, мастеровитого пианиста не составляет особого труда отбарабанить по нотам любое произведение, на которое у него хватает технической грамотности. Но у Полины фантастическая техника (недаром ее папаша месяцами терзал дочь, добиваясь нечеловеческой скорости пальцев) — существует не сама по себе (хотя и этим у нее можно наслаждаться как экзерсисами неземной красоты и силы), а открывает перед ней широчайшие возможности высказываний, доступные лишь исполнителю, находящемуся с композитором в отношениях полноценного, на молекулярном уровне, душевного сотворчества.
Осетинская играла очень по-женски, куда мягче, чувственнее, нежели это могли бы сделать и сами авторы музыки, временная дистанция между которыми и ею самым удивительным образом не то, чтобы резко сократилась, но, вообще, исчезла, будто никогда и не существовала.
Было бы пустой тратой времени, если бы я сейчас начал восхищаться технологическими особенностями исполнительской манеры Осетинской — силой звука, извлекаемого ею из струн рояля; ее умением продлевать жизнь восхитительных гармоний до их самопроизвольного, логического угасания; наличествующей в ее игре сложнейшей геометрии созвучий — от низкого рокота сфер до тончайших трелей струящейся воды и вскриков птиц, неведомых природе. Но важно даже не это, а то, что, воздев над головою кисть правой руки и резко бросив ее вниз, на клавиатуру, пианистка перестает принадлежать себе, в самом прямом, физическом смысле слова. Она играет (ежели по памяти), закрыв глаза, пребывая во власти звуковых колебаний, забыв о существовании зала, не столько следуя требованиям партитуры, сколько диктуя ей свою волю, отчего воскресшие Моцарт с Шопеном (почему бы не предположить этакое чудо?!), быть может, и поморщились бы, но лишь на миг, ибо, постигнув изящество и воздушную полетность ее трактовок, черкнули бы на нотном стане пометку-две, узаконивающие импровизации Полины впредь и на вечные времена.
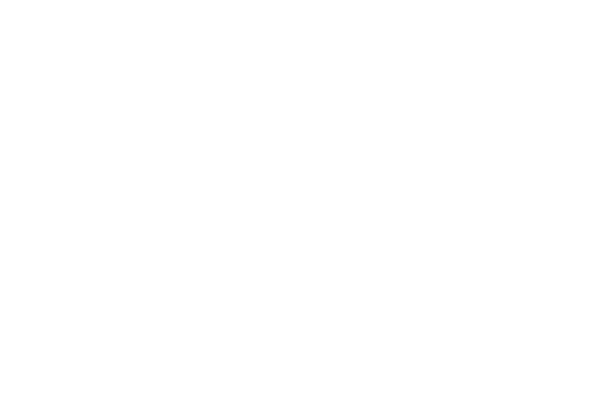
Эти ощущения усилились бы у любого меломана, разделяющего мое нежное отношение к невероятной Осетинской, после того, как он прослушал бы во втором отделении ее концерта «Четыре экспромта» Шуберта и «Смерть Изольды» Вагнера-Листа (переложение последнего). Тогда к списку приемов беспрекословного, если позволено так выразиться, подчинения себе аудитории были бы отнесены ее врожденные и, вполне вероятно, неосознаваемые драматургические дарования, благодаря чему она способна отыграть целый музыкальный спектакль, такой, как в этом случае, безо всяких усилий сводя воедино, на первый взгляд, несоединимые музыкальные стихии. Все это трудно объяснить. Но я попробую, разумеется, не претендуя ни на свою бесспорную правоту, ни на научную обоснованность случайных догадок.
Не уверен в том, что Полина Осетинская, широта музыкальных взглядов, интересов, пристрастий, склонностей которой многих поражает, осваивает все новые и новые материи, включает мало кому известные произведения в свой грандиозный исполнительский компендиум, лишь для того, чтобы в нужную минуту, чуток позанимавшись и освежив память, блеснуть своими талантами на очередной сцене. Это не совсем так или, точнее, совсем не так. Когда она вытаскивает из условного небытия никогда или редко исполнявшуюся музыку, окончательный, качественный отбор (то, как эта музыка будет звучать в ее проектах) происходит (считайте меня мистиком) не на земле — на небе.
Не погружаясь в сугубо технические подробности профессиональной деятельности Осетинской, я вижу, как она, приблизившись к инструменту, еще до извлечения из его недр первого аккорда (наличие или отсутствие нотной записи здесь не имеет значения), как бы подключается к обнимающему сущее невидимому энергетическому полю, где все то, что здесь, в нижнем мире, превращается в конкретную музыку, когда бы и кем бы она ни была сочинена, содержится в неявном, компрессированном виде, наподобие того, как, по Гегелю, в точке, являющейся началом всех начал, заключена в свернутом (в философском понимании) виде вся информация о материальном мире с момента его зарождения и до скончания веков.
Приведу запутанную, но, на поверку, достаточно ясную Гегелевскую дефиницию: «Всякое познание и изучение, наука и даже действование имеют своей целью не что иное, как извлечение из себя и выявление вовне того, что есть внутри или в себе, и, следовательно, не что иное, как становление для себя предметом».
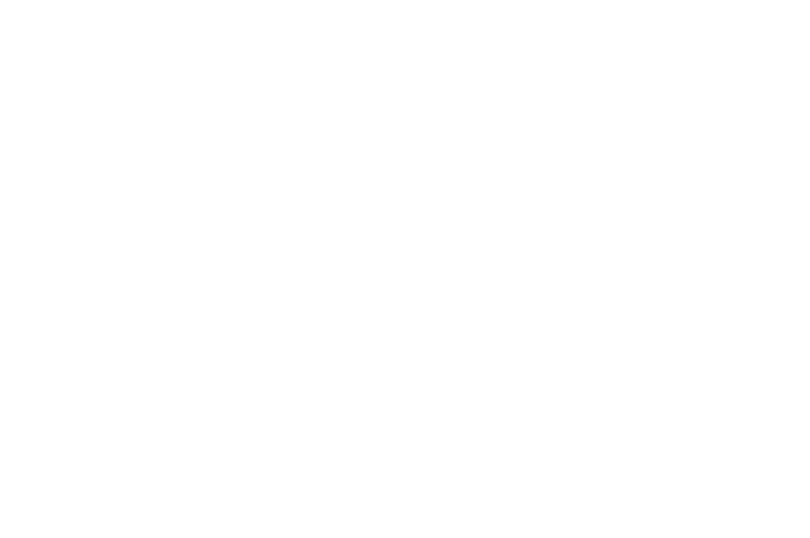
Во как! А в контексте нашей незатейливой истории, в размышлениях о том, на чем основывается тайное тайн выдающейся пианистки, сие означает, что в процессе игры Осетинская, фигурально выражаясь, оказывается (это бывает и в литературе) там, где нет понятий вчера, сегодня, завтра; где все, что было есть и будет — в том числе, великие книги, и вечная музыка с их обретшими бессмертие авторами, — содержится в одном бесконечном объеме, откуда, не вникая за ненадобностью в механизм этого явления, она и черпает полною мерой все, чем потом радует нас, и обретается в эти минуты в шаге от Гете, Моцарта, Шопена, Гюго, рядом с блуждающими там же в поисках откровений Батаговым или Десятниковым, Борейко или Горностаевой…
Не стану толковать этой туманной фразы. Не буду расшифровывать многим незнакомых имен. Посвященные поймут. А прочие обойдутся. На том и поставлю точку, не то заберусь в такие дебри, откуда при всех стараниях не выберусь ни в жизнь. В любви к Осетинской признался. Чего же больше? Чего еще желать?!
Автор Валерий Барановский, источник Отражения.


