«Настоящая музыка — нечто вневременное и внегендерное»
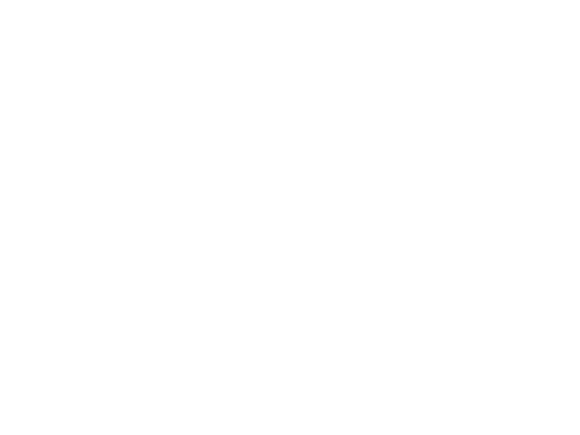
Каковы правильные пропорции алгебры и гармонии в музыке, почему женщинам не надо бороться со своей натурой, чем нотные магазины напоминают золотые прииски, а пианисты — киборгов, рассказала пианистка Полина Осетинская.
Пианистка Полина Осетинская называет себя «москвопетербурженкой». Она регулярно играет в Петербурге, здесь у нее своя публика, друзья, квартира. Сегодня Осетинская — зрелый художник, отличающийся превосходным пианистическим мастерством, смелым оригинальным музыкантским мышлением, тонким вкусом. Лишний раз убедиться в этом можно совсем скоро — 8 декабря она даст сольный концерт в Малом зале Петербургской филармонии. В интервью «Росбалту» в рамках проекта «Петербургский авангард» Полина Осетинская рассказала, каковы правильные пропорции алгебры и гармонии в музыке, почему женщинам не надо бороться со своей натурой, чем нотные магазины напоминают золотые прииски, а пианисты — киборгов.
— Недавно вы сказали, что собственные записи даже годичной давности кажутся вам устаревшими и рецензировать следует лишь последние ваши концерты. Что случилось, что это за «новая Осетинская»?
— Во-первых, изменения, которые произошли в моей личной жизни за последнее время, очень сильно повлияли на мою игру, на мое самоощущение, на процесс моего музыкального самопознания. Вообще, если согласиться, что жизнь развивается какими-то этапами, кусками, сейчас очередной этап закончился. И это, наконец, позволяет мне в музыке перестать быть человеком… человеком, который все время ищет понимания и одобрения других. Я не хочу больше получать оценки. Я, если дозволительно так сказать, сама хочу их ставить. В том числе — себе.
Если раньше я была очень зависима от чужого мнения, то сейчас мне удалось от этого избавиться. И мне кажется это определенным и довольно важным фактором роста. Я позволяю себе пребывать в убеждении, что самый главный критик человека — это он сам. И он лучше всех слышит, как надо и что должно. Окружающие суждения лишь сбивают его. Главное — чтобы внутренний камертон, который в тебе есть, был правильно настроен. Если ты не изменяешь себе — он настроен правильно. Если же ты идешь по другому пути, он может начать фальшивить.
— Понятен профессиональный критерий оценки вашей работы: грубо говоря, ноты должны быть правильные. А каковы художественные критерии этой оценки? Вы слушаете запись — и испытываете удовлетворение в той степени, в какой результат совпал с намерениями? Или как-то чувствуете это прямо в момент исполнения?
— Собственные записи слушаю регулярно, я на них учусь. Я даже два или три года назад с этой целью завела в качестве рабочего инструмента профессиональный диктофон, который всюду вожу с собой и записываю почти все свои концерты, чтобы учиться на своих ошибках и к следующему исполнению что-то скорректировать.
— Ошибках технических?
— Любых. Ритмических, кантиленных, концептуальных. Музыкальных. Это и профессия, и то, что стоит над профессией. То, что, собственно говоря, профессию делает небессмысленной, облаготворяет. Как говорят все святые отцы, цель нашей жизни есть стяжание Духа Святаго. По идее, это то, что должно являться венцом профессии, — стяжать некую благодать. Потому что ноты играют все, и почти все играют хорошо, безошибочно, громко. Вопрос: что стоит за нотами? Мне очень хочется, чтобы за ними, кроме безукоризненного профессионализма, стояло что-то еще. Добиться этого можно только одним способом — ежедневно, ежечасно пытаться совершенствовать себя, свою личность.
— Год назад в Большом зале Филармонии вы играли не только трудную Седьмую сонату Прокофьева, но и технически несложные «Времена года» Чайковского, однако это хрестоматийное сочинение в вашей интерпретации звучало во многом по-новому. Откуда возникает то, что мы воспринимаем как глубину исполнения?
— Из опыта. Из человеческого жизненного опыта. В редчайших случаях глубина дается таланту от рождения. Кто-то говорил: талант — это не количество прожитых лет, а глубина чувствования, заложенная в генном коде. Не уверена, что это поддается рациональному анализу, но, несомненно, прожитая жизнь все больше и больше влияет на некий уровень глубины. В юности, помню, мне казалось, что страдания облагораживают, заставляют творчески расти и придают эту самую глубину. Поэтому я усиленно страдала. А потом наступил период, когда мне надоело страдать и захотелось быть счастливой. Я последовала зову сердца — на какое-то время. Другое дело — что ни одно состояние в жизни не длится вечно. Ни страдание, ни счастье не могут быть нашими постоянными, ежеминутными спутниками. Видимо, чередование этих состояний и дает нам то, что мы потом осознаем как жизненный опыт.
— Десять лет назад в интервью мне вы заявили: «Я считаю, что рояль — не женский инструмент. И вообще творчество — не женский удел. Мы так созданы, у нас другая природа. Женщины, которые в творчестве достигают таких же высот, как мужчины, — не до конца женщины». Замужество и рождение детей изменило ваши взгляды? Например, недавно в Лондоне вы записали диск колыбельных.
— Что творчество не женский удел — ведь так и есть. Женщина — это семья, дом, дети. Все на ней, на ком еще? Все мои знаменитые коллеги-мужчины, сделавшие гастрольную карьеру, играют от 60 до 200 концертов в год. Значит, человек бывает дома, может быть, один-два дня в месяц. Если исходить хотя бы из этого — какая женщина согласится не видеть своих детей месяцами? Жизнь концертирующего музыканта — очень тяжелая физическая нагрузка: бесконечная дорога, перелеты, гостиницы, бытовой дискомфорт, никакого режима, постоянный стресс. Поэтому у моих знакомых — прекрасных пианистов — семья сидит в одном месте, детьми занимается жена, а они гастролируют. А у кого-то просто нет ребенка — не заводят, не готовы, не чувствуют в себе мотивации…
— Это бытовая сторона вопроса. А что касается искусства — вы продолжаете считать, что женщина-творец — не до конца женщина?
— Я примирилась со своей природой, пришла с ней в абсолютное согласие. Я, безусловно, не совсем женщина. Но я, конечно же, и не мужчина. Я нечто среднее. (Смеется). Другое дело — что уровень моих внутренних запросов не то чтобы несколько шире того, что позволяет себе обычная женщина, но… Обычная женщина о чем мечтает? О комфорте, о том, чтобы был милый рядом и всякое такое. А я никогда не мечтала о мужике. Для меня он никогда не был первейшей целью, мне хорошо и без мужика, потому что у меня все уходит в музыку. Если я сейчас, будучи опять в статусе одинокой женщины, испытываю какую-то тоску по мужчине — то исключительно когда нужно прибить картину или донести чемодан. Не очень нормально для женщины, как мне кажется, да?
— У вас ведь с детства привычка все делать самой…
— Да. В общем, я спокойно могу обойтись без мужчины. А вот без музыки — не спокойно. Все-таки я очень много хочу при помощи музыки сказать. Говорить постоянно и как можно большему количеству людей.
— В юности вы очень сердились на то, что публика обращает внимание не только на вашу игру, но и на вашу внешность. Даже говорили, что чуть ли не готовы поранить себе лицо…
— Какая глупость! Это юношеский максимализм.
— Но многие пианисты хлопочут лицом (как выражаются актеры). Вы можете отличить непреодолимый порыв чувств, которые так выражаются, от позерства, желания произвести впечатление на зал?
— Мне гораздо приятнее смотреть на пианиста, у которого вообще нет никакой мимики. К сожалению, стала замечать, что с годами у меня самой мимика стала гораздо более подвижной и выразительной — со знаком минус: она мне не нравится. Иногда смотрю свои записи — это отвлекает и раздражает. Я бы хотела стереть ее, не мимировать бесконечно во время игры. Но как это сделать? Может быть, заколоть все лицо ботоксом? (Смеется). Или вот еще: я всю жизнь издеваюсь над своим коллегой, который всегда что-то мычит себе под нос, порой в два раза громче рояля, и когда мы играем в четыре руки, я его одергиваю. А тут заметила, что сама стала петь. Подпевать себе — от переполняющих меня чувств… С другой стороны, что гневить Бога? Наверно, я примирюсь с какой угодно мимикой, если она сопутствует состоянию, позволяющему выразить нужный мне смысл. Если не получается контролировать ее без ущерба для музыки, то и хрен с ней. Извините за нелитературное выражение.
— Знакомая — музыкальный критик — рассказала, как на концерте учеников профессора Веры Горностаевой в Большом зале Московской консерватории «Осетинская сделала всех мужиков». Вам знакомо чувство соперничества в профессии?
— Да. Конечно.
— Оно плодотворно?
— Оно стимулирует. Когда осознаешь, что тебе хотелось бы играть как этот, этот и этот, и не хотелось бы как тот или тот — ясны критерии, ориентиры, по которым следует двигаться…
— Все местоимения мужского рода.
— Имею в виду «этот пианист». Любого пола. «Пианистка» — вообще что-то уничижительное. Как «поэтесса». Или «музыкантша». Музыкантши есть, конечно, но мне хотелось бы быть музыкантом.
Кстати, на том концерте в честь Веры Васильевны присутствовал один музыкальный критик, который потом написал (уж простите великодушно несколько напыщенную цитату) обо мне: «Это было редкостное художественное откровение, которого слушатели ждут, о котором мечтают и ради которого, собственно, и ходят на концерты». Так вот, он солидаризировался с вашей знакомой насчет «всех парней переиграла», но сделал особенный упор на то, что «игра была очень женственная, ибо Полина следовала своей природе и не старалась демонстрировать за роялем маскулинность, но эта женственность пронзала насквозь ум и сердце». Он написал эту статью и умер, а перед смертью дал мне в Интернете напутствие: не бороться со своей женской натурой. Но я не успела расспросить его до конца, что он имел в виду.
— А в чем отличие «женской» игры от «мужской»?
— Я не эксперт, не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что в женской игре, если брать негативную коннотацию, это, скорее всего, будет самолюбование, чрезмерная эмоциональность и отсутствие вертикали.
— Нотной вертикали? Но ведь она бывает только в оркестровых партитурах.
— Вертикали как ощущения неба и земли. Оно часто дается мужчинам — такая способность к объективации музыки. Слушаешь — и понимаешь, что этот человек говорит что-то новое о мире, о добре и зле. Когда ты слышишь не человека, а саму музыку — как нечто вневременное, внегендерное. Например, игра моего друга Антона Батагова для многих стала открытием, им казалось, что они впервые в жизни услышали музыку так, как она должна звучать на самом деле.
— Ваши программы всегда концептуально выстроены. Кому адресован этот существующий помимо собственно игры интеллектуальный месседж?
— Не всегда удается создать чистую концепцию от начала до конца. Часто приходится идти на компромиссы, когда не столько руководствуешься какими-то рациональными построениями, сколько пытаешься приноровить ту или иную программу к конкретной ситуации: к залу, времени года и обстоятельствам своей жизни. Не то чтобы я стою с мечом у входа в концертный зал и кричу всем: вот уж на моих-то концертах вы не услышите просто сонат Бетховена и просто сонат Шуберта, такого не бывает. Почему не бывает? Не надо зарекаться. Кроме того, я ведь чередую какие-то в достаточной степени концептуальные идеи с идеями более широкого назначения.
— Все же — кто потребитель концептуальных идей?
— Та публика, которую я хотела бы вести за собой на протяжении всей моей жизни. Публика, которой скучно слушать одно и то же, которой интересны какие-то интеллектуальные трипы. Почти во всех моих последних концертах есть современная музыка: Пелецис, Васкс, Пярт, Момпу — круг авторов, которые не очень знакомы слушателям. После этих концертов я получаю довольно много писем: «Надо же, какая изумительная музыка, почему мы раньше о ней ничего не слышали?». Эта радость быть первооткрывателем для меня очень ценна, дорога, ни на что ее не променяю.
У меня, конечно, есть азарт настоящего охотника. Когда попадаю в нотный магазин (как правило, на Западе — у нас они все-таки победнее), перерываю сотни томов с надеждой найти то, что увлекло бы меня до такой степени, что захотелось заинтересовать этим других. И выхожу оттуда, как золотоискатель на прииске, которому удалось намыть горсть золота или алмазов. У меня горят щеки, трясутся руки, повышается артериальное давление, я несу, прижимая к груди, эти сокровища…
Вот весной приехала из Америки, в очередной раз накопив таких сокровищ, их уже довольно много, они тянут не на одну программу, а на целый цикл. Другое дело — бриллианты надо чем-то разбавлять. Нельзя носить один драгоценный камень без оправы.
— Есть авторы, продвижение которых вы ставите себе в заслугу?
— Думаю, что открыла большой части петербургской публики музыку Георга Пелециса. По крайней мере, я первая сыграла его в Концертном зале Мариинского театра. И надо сказать, Пелецис оценил мои многолетние старания по популяризации его музыки — на своем авторском вечере в Москве, где я тоже была задействована, он подарил партитуру нового огромного фортепианного концерта, который посвятил мне. Думаю, моей популяризаторской заслугой можно счесть исполнение музыки Леонида Десятникова. Как мы знаем, все его сочинения играет Алексей Гориболь, но для значительного числа слушателей многие произведения Десятникова открыла я.
— Сочинения Леонида Десятникова занимают половину вашего последнего вышедшего диска. Расскажите о нем.
— Диск частично составлен из моей программы «Италомания-XX», которую я сделала в 2010 году. Там были вещи Отторино Респиги, Франсиса Пуленка, Густава Малера и Нино Рота. Я нежно люблю эту программу, однако все же не вся музыка в ней равноценна, так что программа была хороша в концертном формате, но проигрывала бы как CD. Поэтому я не стала записывать ее целиком, а решила соединить Рота и Десятникова, которые очень много работали для кино. В первую очередь этих двух композиторов объединяет то, что их музыка может существовать абсолютно вне фильма, для которого сочинена. Десятников и Рота стилистически, интонационно близки друг другу, и поэтому мне показалось оправданным из их киномузыки и музыки, так сказать, сепаратной от кино, сделать… немножко зеркальный портрет итальянца и русского.
— У вас есть понятие «мой» и «не мой» дирижер. Каковы качества «вашего» дирижера?
— Тщательность, ответственность и, я бы сказала, художественная бескомпромиссность. На репетиции он не должен уходить со сцены, пока не добьется того результата, который должен быть в идеале. Всегда очень горько идти на компромиссы: когда ты вынужден сотрудничать с людьми, которые не разделяют твоего стремления к совершенству.
— Несколько лет назад вы играли сольный концерт в Большом зале Филармонии, и, забыв текст, остановились. Тогда вы признались: «Больше всего мне хотелось сходить за кулисы и принести ноты». Откуда этот предрассудок, будто играть наизусть престижнее, чем по нотам?
— Бывают всякие ситуации. Когда у тебя в месяц пять-шесть разных программ — если ты не киборг, ты вряд ли сможешь все их играть наизусть. Хочешь за свою жизнь сыграть как можно больше музыки без потери качества — играй по нотам.
— Так считал и Святослав Рихтер
— Я разделяю точку зрения Рихтера, более того, хочу в этом быть на него похожей. Могу сказать, что никогда больше не буду играть без нот, но, честно говоря, вообще не вижу никакой разницы для публики. Все-таки она платит деньги за то, что мы учим наизусть, или за то, что играем так, как именно мы можем сыграть? Хотя есть какие-то концерты, которые можно и нужно играть наизусть. Если играешь одну сольную программу сто раз подряд, то, наверно, гораздо проще и свободнее ощущаешь себя, когда ты не скован нотами. Играть по нотам — тоже искусство: стоит на секунду отвлечься — и потеряешь строчку, можешь сбиться.
— Какова правильная пропорция алгебры и гармонии?
— Не могу сказать, не знаю… Но вот я играла и записывала одного автора — он выдающийся математик, а музыку писать начал недавно, пару лет назад, прочитав несколько книг по теории музыки. И он — человек очень вменяемый и в высшей степени прислушивающийся к мнению профессионалов — по моей настоятельной просьбе сделал несколько купюр. Парадоксально, но он, будучи математиком, не просчитал нужное количество тактов. Там было довольно много лишнего, и это вредило смыслу музыки. Ведь графоман тем и отличается от профессионала, что не умеет отрезать лишнее. Если бы он подходил к вопросу математически — он, конечно, по-другому все это скомпоновал. Вот вам пример того, что далеко не всегда музыка — математика: если математик предпочитает, сочиняя музыку, следовать велениям сердца…
Беседовал Дмитрий Циликин, www.rosbalt.ru.


